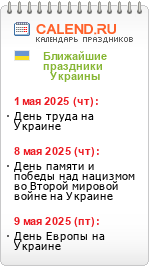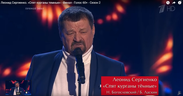Леся Орлова и собаки
У меня никогда в жизни не было своей собственной собаки – так сложилось. Это уже вряд ли изменится, долго объяснять. Но было несколько собак, которые были как бы немножко моими тоже.
Первая собака в моей жизни – гигантский черный дог Донат, обитатель квартиры на третьем этаже в подъезде моего детства. Трагедией этого огромного, хрипло-басовитого, немножко похожего грацией и литыми мышцами на пантеру Багиру, пса было несоответствие внешности и характера. Добрейший и всех любящий, он выглядел натуральной собакой Баскервилей. Его пугались, от него шарахались, от его гулкого, как раскаты грома, приветственного лая закладывало уши, - а хотел он при этом только одного: дружить, общаться, болтать, веселиться и обниматься.
Особенно Донату были симпатичны дети, и он охотно возился бы и играл с ними, да не получалось – рыдающую от ужаса малышню подхватывали и уносили от греха подальше перепуганные мамаши, и Донат только с тяжким вздохом кивал сам себе и горько улыбался в наморднике, тесно прижатый к ноге хозяина с грозным «Донат, фу!!!» (в точном соответствии с хриплой строчкой Аллы Пугачевой: «Вот так всегда, как только я кого-то полюблю»). Зато гулять с ним поздним вечером на ставке у университетских общаг было очень даже безопасно – места там ближе к ночи уже не рекомендовались для променада, но все хрестоматийные пареньки в кепариках, сослепу подходившие вразвалочку с «дифчооонки, прывет, чё-как?» - уже после первого радушного отклика обманчиво слившегося с темнотой Доната втягивали кепарики в плечи и быстро уходили, печатая шаг, а затем и вовсе переходя на оздоровительный бег.
При встрече с соседями Донат, если успевал, радостно вставал на дыбы, как скаковой жеребец, возвышаясь метра на два с лишним, и ставил передние лапы им на плечи, капая сверху восторженной жаркой слюной. Если же его удерживали на поводке, просто бурно махал со свистом длинным некупированным хвостом-шлангом, оставляя жуткие синяки на ногах у не успевших отскочить. Был он так огромен, что у него даже была собственная комната: Донат жил в большой кладовке, из которой приветствовал, как умел, всех проходящих за входной дверью по лестнице.
Временами я ему изменяла с другим любимцем двора – аристократичным огромным холеным колли по имени Кеша (а вообще это был, конечно, совершеннейший Иннокентий), благородно приглушенного рыжего окраса с большой пушистой белой «манишкой», мягчайшей длинной шерстью и вытянутой умной лисьей мордой. Кешиным хозяином был тогдашний главреж Донецкого оперного, господин весьма утонченный и озабоченный своим имиджем. Поэтому временами бывало чрезвычайно забавно наблюдать в кухонное окно его прогулки с собакой. Дело в том, что Кеша, с виду вальяжный и неспешный, тем не менее обладал способностью к внезапной веселой прыгучести, если его что-нибудь вдруг заинтересовывало. А сильный он был невероятно. Поэтому туда он и бросался, не заботясь о прицепленном к нему за поводок хозяине. А хозяин, соответственно, неизбежно бросался следом, и это был чистый анекдот, потому что он реально на секунду застывал в балетном прыжке гран-жетэ, потом наконец приземлялся с отставленной ногой, ногу осторожно опускал и приставлял, после чего опасливо оглядывался… и на всякий случай независимо делал вид, что это он, вообще-то, сам, по прихоти творческого человека, решил вдруг эдак прыгнуть.
Когда Кеша гулял, дети его окружали и, причитая «Кеша, Кешенька», осторожно гладили, он разрешал. Славный был невероятно. Настолько, что в детских анкетах на вопрос «твоя любимая порода собак» я еще долго неизменно отвечала «колли».
Другом моего детства была и прелестная беспородная собачка наших близких друзей. Звали ее «Шара», «Шарка», «Шарочка» (не знаю, каким было ее полное имя и было ли у нее полное имя). Охристо-бежево-белая, небольшая, востроносенькая, плотненькая, длинненькая, страшно деловито перебиравшая коротенькими лапками, необыкновенно дружелюбная. У меня вообще слабость к дворняжкам – бесхитростным, благодарным и с необыкновенной восприимчивостью обретающим характер, идеально соответствующий их семьям. Вот Шара была – добрейшая пожилая интеллигентка, интересующаяся абсолютно всем, радушно встречающая гостей, участвующая в беседах о разном культурном и чуть ли не чай с абрикосовым вареньем готовая во время этих бесед пить из кобальтовых чашек, если будет нужно. Приходя в гостеприимный дом, полный книг, банок с вареньем, запаха канифоли (чудесный хозяин вечерами что-то паял часто – радиодетали, мне кажется), теплых низко-гудящих голосов семьи и металлических черных настольных ламп на старинных инженерских письменных столах, обитых медными гвоздями-кнопками черной кожей, я наслаждалась общением с Шарочкой, вежливо позволявшей гладить ее по голове и по гладкой спине. На фамильярности, вроде трепания за бархатные уши или поглаживания ступнёй с готовностью подставленного беззащитного живота несколько раз рожавшей, судя по всему, собаки, я не решалась. Хотя ужасно хотелось. Весть о ее уходе надолго опечалила всех многочисленных друзей этого дома-маяка.
Другая история была – собаки моего двоюродного (по сути, конечно, самым что ни на есть родным он был) деда. Дед был – последний «красный директор», возможностями улучшить свой и чужой быт совершенно не пренебрегал, но при этом выстроил себе очень жесткие границы допустимого. Поселился, например, в том же доме на харьковской Холодной горе посреди цыганского поселка, который построил для рабочих своего института и завода. В довольно большой, но не то чтобы прямо роскошной четырехкомнатной квартире, одним из важных достоинств которой были балкон и гигантская лоджия, полноценная комната, обшитая деревом. Так вот, на лоджию эту никто, кроме хозяев с мисками, не ходил. Потому что это был собачий дом. У деда был целый зверинец.
Противнейший толстый и злобный старый кот по имени Штопс, которого жалким умирающим котенком в дом принесла моя прабабушка, выкормила из пипетки, а он в итоге вырос в холеного царя вселенной, ненавидящего всех, кроме деда. Дед его тоже обожал, укладывал к себе в постель, отдыхая днем, и оба они лежали рядком, выпростав руки – и лапки – из-под одеяла, и дремали, одинаково смежив узкие глаза. А сенбернара Амура принесли крохотным меховым трогательным шариком, умещавшимся в обувную коробку. Рос он стремительно – и вырос в бежево-золотистого гиганта невероятной пушистости, доброго, теплого и очень терпеливого. Неспешный флегматик, он был вечной игрушкой для младшей дедушкиной внучки-любимицы – и позволял ей делать с собой все: хоть верхом кататься, хоть чистить зубы зубной щеткой, хоть открывать пальцами спящие глаза, хоть таскать за хвост-плюмаж (ну, делать попытки – он весил с центнер, наверное), хоть кататься на нем, как бы запряженном, хоть мять теплую пушистую морду, растягивая в улыбке. Только глаза прикрывал, то ли от нежности, то ли от утомления. Амур был – как огромный благородный лев из мультика про «Короля Льва».
А потом у него родился сын, Ник. И тоже вымахал будь здоров. От отца он, все же, отличался. Размером и ростом (примерно как львица по отношению ко льву), длинноногой нескладностью, пониженной, относительно лохматого Амура, пушистостью, а главное – характером. Ник был очень живой, общительный и растрепанный вечный подросток. Жили они с папой на той самой лоджии, каждый день для них варился в огромной 20-литровой, что ли, кастрюле-выварке суп из говяжьих голов и крупы, на лоджии было тесновато, наверное, и счастьем для собак было время прогулки. Во всей квартире распахивались или закрывались двери, чтобы создать направленный коридор, и по нему, оскальзываясь на паркете на поворотах, слоновьим галопом мчались на свободу освобожденные здоровенные домашние львы.
Амура жизнь на лоджии, как я понимаю, устраивала – он был философ. А Ник страдал без общения (семья была большая и шумная) и умолял пустить его в квартиру. Пускали, что ж. Его любимой позицией было – развалиться посреди огромной кухни, максимально и, я подозреваю, абсолютно осознанно мешая всем вокруг. Он еще и перемещался, негодяй, падая, разбрасывая длинные ноги и растекаясь на пару метров, то у плиты, то у раковины, то у двери, то у рабочего стола, об него все постоянно спотыкались и чуть не падали (я несколько раз засекала, как он, точно просчитав траекторию, создавал именно такие аварийные ситуации, а потом на очередное «Ник, да чтоб тебя!!!» - реально ржал в здоровенную лапу). Он вообще был отличный актер – котик из «Шрэка», по сравнению с Ником, был жалким неудачником из районного кружка художественной самодеятельности. Когда садились обедать или ужинать (всегда за большим столом в гостиной, в кухне было не разместиться), Ник, только что навернувший полкастрюли своей сытной похлебки, осуществлял последовательную трехэтапную операцию. Сначала слонялся вокруг, с горьким «достоевским» терпением обнищавшего чиновника косясь на застолье из углов комнаты. Потом подходил к кому-нибудь (к моей маме обычно, как к самой жалостливой, потому что прочие его безжалостно отпихивали) и клал голову ей на колени, тоскливо заводя глаза из-под столешницы и скорбно кривя рот). После чего, заняв высоту, наконец попросту водружал голову уже на стол, обводя взглядом тарелки всех присутствующих, тяжко прерывисто вздыхая, как бы мужественно подавляя неуместные рыдания, а то и вообще пуская слезу из глаза. Все смеялись в голос, гнали его, но своего он добивался – вожделенный кусок кто-нибудь, беззлобно ругаясь, таки клал в огромную пасть.
Еще там был появившийся позже всех черный большой пудель Чарлик, который, вопреки остальным, избрал себе в божества не альфа-самца дедушку, а как раз наоборот его жену. Очень был игривый пес, похожий сразу на все картинки с цирковыми пуделями. На лоджии не жил, тусил в квартире и помогал хозяйке раскладывать пасьянс, посматривая с ней вместе вполглаза мексиканский сериал «Никто, кроме тебя» и сообща над ним иронизируя.
И вся эта стая в выходные устраивала лежбище в дедовой спальне. В постели с ним, как я уже говорила, лежал, выпростав толстые лапки самого примитивного серо-полосатого окраса, Штопс (боже, сколько подлых, исподтишка, ударов его когтей по наивной морде перенес бедный незлобливый Ник!). Рядом на гигантской кровати, но поверх одеяла, - кто первым успел, Ник или Чарлик. Соответственно, Чарлик или Ник – на полу, и там же, полкомнаты занимая, царь зверей Амур. Все это пыхтело, сопело, подремывало, подрагивало, похрапывало, потягивалось, ворчало, удостаивалось августейшего поглаживания и наслаждалось. Библейская прямо была картинка.
Следующим моим любимцем – настоящим братишкой – стал шарпей моих вторых родителей, ближайших родных и любимых взрослых, шоколадный лоснящийся Кеша. Полное имя у него было чуть ли не тройное, начиналось с «Кековани», был он отпрыск каких-то шарпейских принцев крови из Чехии, но – бракованный (понятия не имею, по каким параметрам, абсолютно здоровый и красивый был пес). Достался им в подарок от сына – и стал, в сущности, младшеньким. Это был пес необыкновенной веселости и чувства юмора – он не просто смеялся, он хохотал, запрокидывая голову и распахивая пасть, он шутил сам и отлично понимал все шутки и анекдоты. И вообще все понимал – такой бы ум, проницательность, великодушие, снисходительность, деликатность и умение прощать - иным людям… Взрослого сына моих самых дорогих Кеша обожал – как вершителя своей счастливой судьбы и как старшего брата. И когда тот приходил, бросался к нему, изливая всю свою безграничную любовь и признательность. Однажды как-то не вовремя, что ли, он так бросился и вертелся под ногами с оглушительным восторженным лаем, и старший брат ему раздраженно сказал что-то вроде «Кеша, отцепись, не до тебя сейчас».
Дальше – надо было видеть, что случилось. Кеша оцепенел, лицо его стало сдержанно-прохладным, вполне как у чешского принца крови, и он (про человека написали бы – с гордо выпрямленной спиной) повернулся и ушел в другую комнату. И с тех пор старшего брата не то чтобы игнорировал, просто демонстративно держался в стороне. Ты хотел, чтоб я не лез? Ок, я не стану мешать. Сниму решительно пиджак наброшенный. Тот с ним потом и так, и этак, как ни в чем не бывало, с шутками, а Кеша – кремень. Вежливое негромкое «здравствуйте» - и «прошу прощения, много дел, вынужден вас оставить». В конце концов старший брат однажды не выдержал, пошел в спальню, где, задумчиво лежа у батареи, Кеша холодно пережидал его визит, опустился перед ним на корточки и со всей искренностью и безоговорочным признанием своей вины попросил прощения – серьезно и грустно. И что вы думаете? Кеша немедленно вскочил и кинулся обниматься, причем как-то так, что ясно было, что он говорит: типа, все, братишка, забыли, и никогда не станем об этом недоразумении говорить даже, и кто старое помянет – тому я лично с глазом разберусь. И все пошло по-старому.
Кеша был – мужчина. Он очень точно чувствовал хозяина, его настроение. И если знал, что у того что-то не так, что он расстроен, раздосадован или разгневан, - просто подставлял дружеское плечо. Звал пройтись. И они ходили рядом по ночной улице в понимающем слаженном взаимном молчании, а потом возвращались, и снова можно было жить дальше, как будто все обсудили и пришли к какому-то решению. А когда хозяйка неважно чувствовала себя и лежала, Кеша лежал на полу рядом. Стараясь сопеть как можно тише, просто быть на подхвате. Иногда она, чтобы он не очень волновался и чтобы почувствовать его нежность, не глядя опускала с кровати руку – и он немедленно тыкался ей в ладонь холодным мокрым носом. И обоим становилось легче.
А потом однажды Кеша заболел – из-за преступной небрежности дорогущего ветеринара, упустившего очевидную угрозу, началось-то всего лишь с ранки от когтей дворового кота, а переросло в ужас. И он стал умирать, очень стараясь никому не доставить беспокойства. Дождался отъезда хозяйки в санаторий, притворился, что все вполне нормально, чтобы не мучить ее. С хозяином можно было не очень стыдиться – они были взрослые мужчины, плечом к плечу. Кеша стремительно слабел – но терпел, благородно стараясь не показывать своих страданий. И, когда хозяин, задыхаясь, мчался по ступенькам с очередными дорогущими бесполезными банками из ветеринарной аптеки, наполовину уже парализованный мой младший истощавший братишка слабыми передними лапами подтягивал себя в прихожую, чтобы любой ценой выполнить главный собачий долг – встретить хозяина у двери. Он сделал так и в последний день, из последних сил. Дождался, встретил, успел положить голову на колени. И больше я об этом не могу.
Мне довелось встретить еще одну поразительную собаку. Уже здесь, в Москве. Это была Кора, член семьи наших близких друзей – и предмет восхищения всех многочисленных друзей их дома. Кора была самой интеллигентной собакой из всех, каких я встречала в своей жизни. Лучше всего, пожалуй, ее когда-то описал Александр Сергеевич: «Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, все тихо, просто было в ней, она казалась верный снимок дю комильфо».
Породистая дворняга, по виду – помесь овчарки и лайки, Кора (Корочка, Корундель) бездомной юной девицей однажды просто на улице доверчиво приняла приглашение наших друзей стать их собакой. Я познакомилась с ней, когда она уже была почтенной матроной, хозяйкой московского интеллигентного салона, эрудиткой, театралкой, любительницей хорошей поэзии и прочая, и прочая. Впервые я встретилась с ней в поезде «Москва-Рига»: из года в год Кора путешествовала со своей семьей в Плиенциемс, где в доме с прохладной террасой собиралась большая компания старинных друзей. Для нее покупался билет, оформлялся паспорт и брались необходимые справки, после чего в вагоне она занимала нижнюю полку, где и лежала на своей специальной простынке, в буквальном смысле не подавая голоса до самой Риги. Ни звука, я не шучу. И только выходя пройтись на станциях, могла размяться, но быстро брала себя в руки, дабы не уронить высокого звания московской интеллигентки. В нее влюблялись с первого взгляда все, кто на такие чувства обычно не очень способен: проводницы в вагоне, пограничники и таможенники. От нее пришла в восторг и бросалась с объятиями Белла Ахмадулина, ехавшая однажды в соседнем купе. И я была в восхищении тоже – и когда в той поездке мне позволили, поглаживая, вычесывать ее линяющую длинную мягкую шерсть, ощущение было, что я удостоилась высокой награды.
В домике в Плиенциемсе Кора была в своей стихии. Она не пила кофе, вина и виски, не ела латвийского сыра и копченой рыбы, но полноправно присутствовала при беседах на все возможные темы – о литературе, кино, политике, истории и музыке, - и с удовольствием давнего ценителя слушала джаз и стихи. Лежала на своем уютном продуваемом местечке на террасе и тихонько оттуда всех любила. Позволяла многочисленным детям компании себя тормошить и ласкать, нежно улыбаясь и тихонько порыкивая и полаивая от чувств. Все мы были ее стаей.
Она когда-то даже плавать научилась, чтобы не упустить из виду и, если что, спасти и быть рядом. Сначала страшно боялась воды, даже лап не мочила. А потом, кажется, еще в Апшу дело было, однажды ее хозяйка уплыла – далеко. И вдруг, оглянувшись на зов и сопение, обнаружила, что героическая Кора, плюнув на все и презрев свой страх, как умеет, торопливо плывет за ней, с непривычки выбиваясь из сил. Зато впоследствии, спустя годы, они, две дамы, две лучшие подруги, уже с полным взаимным удовольствием осуществляли долгие заплывы в холодном Балтийском море.
А нам с мужем нужно было много гулять, и всякий раз, когда мы отходили от дома, чтобы двинуться по чудесной тропинке между морем, песком и сосновым лесом, повторялась одна и та же история. Кора, спокойная, невозмутимая, благовоспитанная, приходила в сильнейшее волнение. Она прыжками металась между нами, уходящими, и остающейся на террасе компанией, явно делая попытки загнать отбившихся овец обратно в безопасную отару. А потом, осознав, что ничего не выходит, она с глубоким вздохом принимала тяжелое взвешенное решение – и отправлялась, все-таки, с двумя неразумными глупышами, которых наверняка поджидали в пути самые разнообразные опасности, и только у нее была возможность их загородить собой. Мы шли и шли – каждый день десять километров, - и она трусила поодаль, то забегая вперед, то отставая, то на кого-то охотясь, то прислушиваясь или что-то обнюхивая… Иногда мы теряли ее из виду, но стоило позвать, как немедленно в отдалении, как лист перед травой, нарисовывался наш серенький волчок с навостренными ушами и скачками несся к нам. Ну, мало ли, что мы там натворили, стоило ей на секунду отвернуться.
Спустя пару лет, когда мы с мужем снова туда приехали, Кора все так же попыталась исполнять свои обязанности защитницы. Увы. Увы. Десять километров она одолела с трудом, из последних сил, чувства долга и гордости. А когда мы вернулись, свалилась буквально на сутки, не могла даже головы поднять, даже поесть – пила только, и лежала, тяжело ходя боками. Больше на долгие прогулки ее, конечно, уже не отпускали – и мы с печалью поняли, что Корочка не молодеет, нет.
В гостеприимном московском доме Кора встречала в дверях, радостно спешила навстречу, чуть ли не руки вытирая о фартук, оживленно улыбалась и целовала – куда могла дотянуться. А потом лежала на своем месте на диване, охотно откликаясь на предложения побеседовать. Или отходила в прихожую и сворачивалась там, с грустным задумчивым лицом, готовым, впрочем, тут же заулыбаться, если кому-то ее печаль вдруг покажется неуместной. Я Кору всегда называла на «вы» - так у меня почему-то с самого начала получилось и устоялось.
Когда она заболела и лечилась, мы все с колотящимися сердцами мечтали, чтобы обошлось. Не обошлось. Входя потом в ее дом, я автоматически, инстинктивно искала ее глазами – и мне требовалось некоторое время, чтобы затолкать обратно уже рвущиеся наружу вопросы о ней и заново уяснить, что ее нигде нет. Один приятель, прощаясь, сказал о ней: «Корочка была прекрасным человеком». И это чистая правда. Одним из лучших – эвер.
А сейчас в еще одном чудесном доме под Москвой есть восхитительная Шера, Шерка, Шерочка (на самом деле – «Шарлиз») – прелестная высокая и стройная черная ризенша, то восхитительно лохматая, то щегольски коротко подстриженная этаким «артемоном» с пушистыми помпошками внизу на лапах, длинноногая и исполненная, как говорится, неизъяснимого живого лукавства и девической непосредственности. «Дочка» наших друзей, очень уважающая «папу» и беззаветно влюбленная в «маму». С «мамой» они ближе всех на свете, Шерка без нее не может, ходит за ней хвостом, совершенно такой же – один в один, я клянусь, плавной женственной походкой, и иногда «мама» даже красит ей ногти ярким лаком. Потому что Шерка – совершеннейшая девчонка, избалованная, любимая, кокетливая, обожающая общество, обниматься, целоваться и получать желаемое. Желает она обычно или вылизать кому-нибудь лицо от чувств-с, или подпеть песне, или, чаще всего, еды. И однажды в лесу, дурным недорослем, совершенно виртуозно заставила двести человек себя угощать, а потом валялась посреди поляны с горячим носом, почти не дыша, всех страшно перепугав и чуть не умерев от обжорства. С тех пор все страшно боятся ее кормить, поэтому она находит возможности сама.
Например, может забраться в продуктовую палатку, чуть ли не подкоп сделав, найти там огромный фруктовый пирог на противне и, не без изящной соразмерности, аккуратно обгрызть ароматную корочку точно по периметру. Охотно участвует в совместной готовке. Ну, вы знаете, когда девочки стоят вокруг стола, что-то нарезают, что-то попивают, болтают и ржут, как ненормальные. Вот в этот самый момент на столешнице непременно обнаруживается радостная, взволнованная и деланно невинная Шеркина черная мохнатая мордаха, глаз за шерстью почти не видно, так только, весело посверкивают из-под длинной лохматой челки иногда угольки. Как бы участвуя в девичьей беседе, на самом деле она высматривает ближайший вкусный кусок. И если в этот момент ей прилетает по носу, то она, совершенно не обидевшись, отбегает в сторону – и видно невооруженным глазом, что в ее хитрой брюнетистой голове происходит напряженная мыслительная работа. После чего она совершает умнейший и ловчайший (да жаль, всем уже известный) трюк: по дуге обегает компанию и невозмутимой трусцой подваливает с другой стороны, небрежно кладет голову на стол с другой, повторю, стороны, громко дыша открытой розовой пастью и озорно улыбаясь, и всем своим видом сообщает: «А это вовсе и не я. В смысле, не та невоспитанная девица, что давеча всех нас, девочки, шокировала несусветной наглостью. Это вот, сейчас – другая собака, незнакомая, вообще новая. И, пардон муа, не найдется ли у вас, к слову, пожрать?». В этот момент мы всегда пополам складываемся от смеха, так это трогательно, смешно и по-детски. И пожрать ей обычно находится, если честно. Ах, до чего золотая она девчонка…
Еще я уже с год мечтаю ближе познакомиться с бежевым пуделем Даниилом Андреевичем. Это – вторая собака в моей жизни, которую я сразу стала называть при встречах на «вы». Даниил Андреевич – пес блистательного музыканта-клавишника, играющего на фоно и аккордеоне сразу в десятке разных групп. Все группы знают Даниила Андреевича, уважают и полушутя (потому что в шутке – доля шутки) называют «директором коллектива». Даниил Андреевич любит своего хозяина Андрея со всей страстью, до дрожи, до безумия – и совершенно не способен оставаться без него. Не переносит даже короткой разлуки, впадает в ужас и панику и реально доводит себя до сердечного приступа. В связи с чем Андрей уже давно принял решение с Даниилом Андреевичем не расставаться ни при каких обстоятельствах. Что сказалось и на социальной, и на профессиональной его жизни. Потому что Андрей соглашается бывать и выступать только там, где будут рады видеть его пуделя. Такой его принципиальный выбор. К счастью, есть достаточно ресторанов, клубов и концертных залов, где Даниил Андреевич – вполне желанный и полноправный гость. Он важно и деловито вбегает первым, когда группа приезжает на саунд-чек, и в этот момент кажется очень странным, что он тоже не волочет какого-нибудь черного маленького кофра с собственным музыкальным инструментиком. А дальше он то, свесив длинные кудрявые уши, сидит среди публики, оценивая работу коллектива, так сказать, издали. То прохаживается вдоль сцены и по залу, проверяя, видимо, звук и свет. То забирается на сцену и сидит в ногах участников (те, особенно подпрыгивающие гитаристы, его привычно чувствуют уже не глядя - и подпрыгивают как-то с учетом наличия Даниила Андреевича на близлежащем пятачке).
Редкого обаяния пес. Разрешил себя погладить (я всегда спрашиваю разрешения), на ощупь – что-то волшебное, пухово-нежное и волнистое (подобного эффекта «пляжных волн» уже несколько лет человеческие девочки добиваются с помощью специальных спреев с морской солью, диффузора или ночевки с закрученными в жгутики прядями, а Даниил Андреевич для этого ничего не делает, просто так живет, и его уважают, стараются минимально оскорблять стрижками, и страшное слово «груминг» ему незнакомо).
Однажды очень давно – лет двадцать тому - у меня чуть не появилась собака. Дворняжка, похожая на маленькую лису. Как-то она прибилась в наш двор в Донецке, деловито и весело там сновала, отважно облаивала проезжающие машины и даже гонялась за ними. Я с ней стала здороваться, несколько раз поесть ей выносила (сдуру, доброхотка дурацкая, напрочь забывшая про ответственность перед теми, кого) – и в итоге она стала меня выделять. Кажется, назначив своим человеком. Встречала и провожала, вся светясь радостью и любовью. А потом однажды она совсем забылась и пошла за мной следом в подъезд, и деловито поднялась до квартиры. И у меня сердце чуть не выпрыгнуло, потому что решать надо было вот сейчас. А что решать-то, понятно же было всё. Я опустилась перед ней на корточки и сказала: пожалуйста, пожалуйста, прости меня, я никак не могу взять тебя к себе, потому-то и потому-то, мне бесконечно жаль, я бы очень хотела, но ничего не получится, прости меня. Она меня выслушала и медленно и спокойно пошла вниз по лестнице, сразу же. Больше она ни единого раза не подошла ко мне и даже головы в мою сторону не поворачивала. Мне до сих пор стыдно, тоскливо и горько об этом вспоминать.
Ну ведь правда же, какие-то милосердно нам дарованные посланники безусловной любви. Божьей – в самом прямом смысле этого слова. Новозаветной – щедрой, бескорыстной и «возьмите мою лапу, хвост или даже всю жизнь мою, только лет май пипл гоу». Живые примеры, как нужно – и как это просто.
У нас не будет собаки. По целому ряду причин. Наш образ жизни этой ответственности не предполагает. Собака точно умрет раньше, а это я не могу, мне хватило потерь. И все такое. И все же, когда я порой смотрю или читаю о том, как живете вы, у которых собаки… Когда представляю себе, в какой великой счастливой любви вы живете…