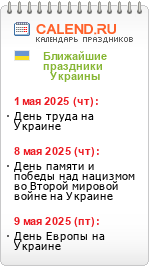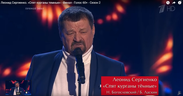Жесткие объятия с нынешней свободой творчества
Рассказал мой приятель, американский профессор (литература, то-се). Одна девушка, начинающая писательница, написала пьесу. Неплохую. Ее напечатали. Но.
Ее стали критиковать: как же это, в пьесе ни одного чернокожего персонажа? Одни, блять, белые? Один критик осудил(а), второй осудил(а), третий (-ья) и четвертый (-ая).
Девушка покаялась. Как же, говорит, правильно вы меня осудили, говорит (публично говорит), остановили, схватили за руку! Где же были мои глаза раньше? Как я могла? Как могла? Я вынесла урок! Я никогда-никогда больше так не буду, я поняла. Отныне я непременно буду включать в свои тексты афроамериканцев (латиносов, трансгендеров, этсетера, этсетера).
И вот мой приятель (он уже практически на пенсии), всю свою прекрасную долгую жизнь проработавший в университетах и сам пишущий, говорит: а почему, собственно, она не может писать про то и тех, про кого посчитает нужным? А почему она не выступила и не сказала: а не пошли бы вы все куда подальше (обычно в жопу, но можно и наряднее как-то)? А какое вы все имеете право мне указывать, про кого писать и сочинять?
Тут разница, конечно, поколенческая. Профессор - он из поколения хиппи: свобода высказывания, косичка, прихваченная резиночкой, либеральное и толерантное отношение к массе всякого всего, жизненного, разнообразного, пестрого.
А новое поколение - это надзор, окрик, публичные выволочки, осуждение всем коллективом, остракизм и сжигание (пока словесное) книг, написанных не так, как велено.
И настолько это серьезно, что я ни профессора не назову, ни девушку, написавшую свою первую пьесу и уже выползающую из литературных застенков с переломленным хребтом.
Ему еще работать, а она все равно уже порченая.