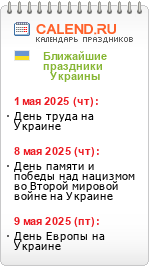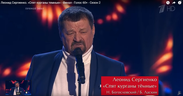О судьбе Александра Авдеенко, которая похожа на слепок эпохи
Есть такие судьбы, которые называют «слепком эпохи». Я довольно много об этом думаю, и для себя пришла к выводу, что это определение редко можно применить к людям великим и по-настоящему талантливым. Если уж говорить о тех, кто добился известности, то этим самым «слепком» чаще являются судьбы так называемых «писателей второго ряда», в ком не было дара и миссии, позволяющих взломать код системы и вырваться из заданных общей судьбой границ. И вот, на днях я познакомилась с таким человеком, причем, посредством целой цепочки важных лично для меня совпадений.
Когда-то я тут признавалась, что с детских лет питаю странное забавное пристрастие к советским производственным романам. У меня есть среди них любимчики – бедные картонные старательные уродцы. И пальму первенства я давно отдала чудовищному «застойному» роману Александра Авдеенко под характерно патетическим для жанра названием «В поте лица своего». Я его в детстве отрыла в подшивке «Нового мира» и потом так скучала по этому нелепо серьезному, насупленному и торжественному до уровня почти пародии ужасу, что с полгода назад купила его на «Озоне» за какую-то жалкую даже для букинистического отдела цену вроде ста рублей. Потом читала его, валяясь в ванне, грызя яблоки и корчась то от смеха, то от стыда за помпезную убогость мысли и текста. Хотела даже пост с цитатами написать, да так и не собралась, и с тех пор Авдеенко так и валяется на стиральной машине.
А тут, значит, поселилась я виртуально у Валентина Катаева, живу в последнее время то у них в квартире в Лаврушинском, то на даче в Переделкино, Орловой – два звонка, хожу с ним по кабакам и премьерам, знакомлюсь с друзьями-приятелями. Временами приходится, конечно, терпеть минуты неприятные.
Например, когда, по долгу службы и велению сердца, Катаев сидит на заседаниях, где коллективно убивают писателей, дружно клеймя, осуждая и исключая. И вот, оказываюсь я в ЦК 9 сентября 1940 года. Рядом с нами с Катаевым сидят Фадеев, Асеев, Погодин, чуть дальше – Маленков. На трибуне – Жданов. А за большой колонной – Сталин. Обсуждается писатель Александр Авдеенко – всесторонне, как вражеский писатель, вражеский журналист и вражеский сценарист.
Сначала его поливает, не давая защититься, Жданов, и у нас с Катаевым от каждой формулировки сердце уходит в пятки. Потом один за другим – братья-писатели, еще вчера хвалившие и поощрявшие. Выходит и Катаев, ему непросто – самого недавно раскритиковали, так что сказать что-нибудь придется. Он и начинает было, мямлит, но тут его прерывает Сталин. Выныривает из-за колонны, начинает ходить взад-вперед и говорит об Авдеенко чудовищные вещи, подробно останавливаясь на фактах биографии, на знакомстве с уже репрессированными партийными деятелями и директорами заводов и шахт, громя фильм, только что снятый по его сценарию Столпером, и отдельно осуждая щегольскую одежду (в этот момент сидящий поодаль потный от ужаса Столпер, комкая, стаскивает с себя галстук, недавно привезенный ему Авдеенко из командировки). Когда наконец Сталин иссякает и предлагает Катаеву продолжить, тот разводит руками и отвечает: «А что же мне сказать, товарищ Сталин? Вы за меня все сказали», - и уходит с трибуны. А потом, вернувшись домой, всерьез ждет ареста за свою отчаянную непочтительную выходку.
А до меня тем временем доходит, что этот только что у меня на глазах распятый Авдеенко (позже я узнаю, что, выйдя тем вечером из ЦК, он потерял сознание на улице) – это же мой смешной Авдеенко, в поте лица своего кропавший сиюминутные нетленки про конфликты на заводе и выплавку стали! Он никогда меня не интересовал, я ничего о нем не знала, я максимум небрежно мимоходом предполагала, что это – рядовой «совпис» с умеренным допуском к распределителям, колебавшийся с линией партии и ничего собой не представлявший как личность (ну, в моем понимании личности). И я начинаю искать. И нахожу его автобиографию «Наказание без преступления», изданную в 1991 году. И неделю назад проглатываю ее за ночь –муж у меня в отъезде был, поэтому я сорвала режим напрочь. К утру я заканчиваю читать, а потом неделю хожу и думаю об Александре Остаповиче и его судьбе, действительно представляющей собой слепок эпохи.
Я узнаю, что он – из моих краев. Родился в Макеевке (это, кто не знает, город-сателлит Донецка, вроде Королева или Люберец в Москве) в 1908-м. Был беспризорником, не окончил и двух классов церковно-приходской, ночевал на перроне в Иловайске (крупнейшая узловая станция в Донецкой области) и там, продавая газеты, познакомился с Троцким и даже с ним говорил, был шахтером, потом уехал в Магнитогорск, работал там машинистом паровоза, параллельно учился на вечернем в «педе», а ночами из какой-то непонятной страстной тяги неумело писал повесть «Я люблю». И она понравилась Горькому, и тот взялся опекать дебютанта.
И подняли рабочего Авдеенко на щит, и стал он примером пролетарского писателя с как раз подходящей биографией. И поехал в 1933-м среди главных писателей СССР смотреть на Беломорканал и потом его славить, и потекла жизнь счастливая, полная потрясающих встреч. А что влиятельные друзья – руководители всех мастей – то и дело оказываются врагами народа, их арестовывают, расстреливают, они стреляются сами, - что ж, тут надо просто зажмуриться и гнать от себя мысли об этом. Ты-то ведь – хороший, свой, ничего плохого не сделал.
Вся страна рукоплещет, когда в 1934 году в «Правде» печатают (а потом перепечатывают коммунистические газеты всего мира) его речь, которая кончается словами: «Я счастлив, смел, дерзок, силен, любопытен, люблю все красивое, здоровое, хорошее, правдивое — все благодаря тебе, Советская власть!».
Вот только главред «Правды», чудовище Мехлис, журит: плохо, мол, что вы разделили Советскую власть и Сталина, это одно и то же, а вы такую глупость сморозили. И уже через несколько дней Авдеенко исправляется, говорит со сцены всесоюзного съезда речь с правильным финалом: «Когда у меня родится сын, когда он научится говорить, то первое слово, которое он произнесет, будет — Сталин!». Эта речь стала легендарной, ее все цитируют при знакомстве с Авдеенко.
А вот производственные романы о героических буднях современников писать становится непросто. Только прототип выберешь, на место приедешь, материал станешь собирать, - а герой покончил с собой, приложив руки к высоковольтным проводам, или не успел – и тогда утром все узнают, что его разоблачили.
Тогда отправляют Авдеенко писать о строительстве канала Москва-Волга (все та же перековка чуждого элемента, конечно) – лично Ягода отправляет, причем, для упрощения задачи - под чужой фамилией и в форме чекиста с двумя ромбами. А впридачу ему дают звание и квартиру в Москве. Только в этот раз на канале он видит многовато и разговаривает многовато, и все не с теми, и вопросы задает, и им все больше недовольны. А уж когда, единственный раз воспользовавшись маской чекиста, он посадил в «одиночку» зарвавшегося, зато "социально близкого" уголовника, Авдеенко в гневе отозвали с «проекта».
Но это – лишь короткая отдаленная гроза, он все равно все еще свой, выставочный, как элитная свиноматка на ВДНХ. Так что его отправляют в заграничный круиз, принимают в Союз писателей, а потом лично Орджоникидзе посылает его в Донбасс. Жить. Писать о стахановцах (Авдеенко сдружился со Стахановым, конечно).
Я читаю – и понимаю, о каких местах Донецка – тогда Сталино - он говорит, какие улицы имеет в виду (в те времена они назывались «линиями» у нас, с номерами).
В 1936 году он переезжает сюда на собственной новенькой «эмке», одетый в заграничный костюм. По пути читает в «Правде» очередное разоблачение проклятых троцкистов, а въехав в Сталино, подвозит к театру Мейерхольда с Райх, у которых на переезде сломалась машина. А назавтра на их спектакле он встречает любовь – ее и зовут Любой, вчерашнюю десятиклассницу из рабочей семьи, провалившуюся в медицинский, влюбляется в нее с первого взгляда и на всю жизнь и буквально через неделю женится.
А нарком-то у нас теперь Ежов, и Авдеенко в Донецке помаленьку сходит с ума от происходящего: ему теперь нельзя писать в «Правду» очерки о местных героях-стахановцах без детальной проверки их благонадежности, а проверить это довольно трудно, потому что в городе практически каждый день идут аресты.
Работая над книгой о донбасских шахтерах, он вынужден вводить туда целый пучок линий, связанных с вредителями и шпионами. Исчезают и меняются первые секретари, председатели исполкомов, редакторы газет, заводские парторги, директоры шахт. Я читаю и узнаю фамилии глав моего города в самое лихое время - Саркисов, Прамнэк, Щербаков (тот, который теперь – парк). Я вижу свой город, каким не знала его, и людей, которые там тогда жили, и это очень странно и важно…
При Щербакове Авдеенко принимают в партию. Как спецкор «Правды» он ездит по всей Украине, дружит с Довженко, и в Киеве в августе 1940-го видит афиши премьерного показа фильма «Закон жизни», снятого по его сценарию. О студенческой молодежи фильм, очень заранее обласканный. И тут же, на глазах счастливого Авдеенко, их заклеивают. Разом поняв, он мчится к ближайшему газетному щиту, где читает кошмарный разнос своего сценария.
Ему 32, половину восхищавших его людей – писателей, киношников, чиновников – уже репрессировали. Иллюзий нет, разве что крошечная надежда, что можно написать письмо, оспорить, оправдаться, достучаться до Сталина, и уж он разберется... Лишь много позже он узнает, что разгромная статья заказана видному правдисту как раз лично Сталиным, и что в ночь накануне публикации Сталин собственноручно переписал половину!
А еще позже поймет, что, бедная мелкая сошка, просто подвернулся под руку – во всяком случае, у него появится такая теория: накануне дня, когда Сталин его, как муху, прихлопнул газетой, убили Троцкого. Авдеенко потом всерьез считал, что Сталина возбудила кровь выполненного заказа, и он просто искал повода, чтобы на кого-нибудь выплеснуть темное свое торжество.
Заклеймив как клеветника на строй, вражеское охвостье и заодно барахольщика, Авдеенко исключили из Союза писателей и, ясное дело, из партии, выгнали из «Правды», отобрали наградной пистолет и лишили депутатского мандата. Он бы, наверное, покончил с собой, если бы не Люба, примчавшаяся из Сталино, где ее с ребенком в полдня выселили из дому. А еще вчерашние друзья и подружки быстренько исключили ее из комсомола – за то, что вовремя не донесла, что муж пишет антисоветские книжки, и заодно за моральное разложение. А Люба ни секунды не колебалась. Мужа не предала, не бросила, и, обычно тихая и сдержанная, орала на всех, яростно его защищая. Ни ей, ни ее родителям даже в голову не пришло отказаться от Авдеенко.
Его не арестовали – и он так никогда и не понял, почему. Взяли на шахту, он пахал под землей (что это было в то время – см. фильм «Зеркало для героя»), а по ночам пытался писать. Мало того, он и не надеялся, а его приняли на заочное в литинститут! Той же весной он попал под завал в шахте – пострадал позвоночник, а не успел приступить к учебе – началась война.
И пришел Авдеенко в военкомат. С военным билетом политсостава – и при этом исключенный из всего, откуда можно исключить. И в добровольцы его зачислить не могут, даже в рядовые, пока лично нарком не лишит его офицерского звания.
Прошли месяцы, прежде чем Авдеенко наконец призвали, отправили в минометное училище и выпустили оттуда лейтенантом. Он оборонял Ленинград, писал очерки в дивизионную газету, стал военкором и почти каждый день писал письма жене и маленькому сыну – на случай, если погибнет, чтобы сын его помнил и знал. Был тяжело ранен на Эльбе. Дошел до Берлина. Написал однажды очерк «Искупление кровью» - о таком вот человеке, бывшем офицере, воюющем в штрафбате. Очерк прочел Сталин и сказал: «Можете печатать. Авдеенко искупил вину». На фронте в 1944 Авдеенко снова приняли в партию и в союз писателей. А потом, едва вырвавшись из госпиталя, он правдами и неправдами добрался до Москвы и присутствовал на параде Победы на Красной площади.
Он встретил очень хороших людей – и в мирной жизни, и на фронте. Он никогда сам ни на кого не доносил, и, хотя искренне до поры верил в проклятых врагов-предателей, никогда не искал их вокруг себя. Он похоронил, в общем-то, всех – и друзей, и врагов. Никогда не простил Сталина и всю жизнь тщился понять, как вообще оказалось возможным то, что он видел и пережил. Многие годы страдал паническими атаками, тягостными размышлениями доводил себя до сердечных приступов. Цеплялся за Ленина, потому что должно остаться святое, и уж он бы никогда, и уж при нем бы ни за что. Писал свои книжки – плохие книжки много и бессистемно читавшего человека, штук сорок, переведенных на пятнадцать языков советских народов плюс на китайский и венгерский еще. Любил свою Любу сильно и верно, и сына своего любил, который много позже стал главредом «Экрана и сцены». А в 1996-м Авдеенко умер, похоронен в Переделкино.
Читать его автобиографию и увлекательно, и тяжко. События и имена - ярчайшие. Размышления – вполне горькие и мудрые. Бесхитростная искренность и человеческая порядочность – очевидны. У него даже немножко получается иногда выстраивать дистанцию между «тогда я думал» и «а теперь я знаю», не обеляя себя прежнего, и вполне с отвращением читая жизнь свою, но строк печальных не смывая. Мощнейшие сцены – это, конечно, моменты, когда он узнавал о гибели очередного вчерашнего верноподданного и кристально чистого, детальнейший рассказ о страшном заседании в ЦК и последовавшей травле и предчувствии смертного приговора.
Я, кстати, даже представить себе боюсь, чего ему, восьмидесятилетнему, какого валокордина и кислородных подушек стоили эти страницы, такой свежей силой и кровью они написаны. Временами у него вообще прорывается острая интонация очень достоверного беспомощного отчаяния… напоминающая о любящей доброй собаке, которую избили до полусмерти ни за что, и она скулит теперь, и слеза ползет, и она не злится, а страдальчески недоумевает и вздрагивает.
В «Наказании без преступления» Авдеенко иногда, я бы сказала, прорывается едва ли не к настоящей литературе. Пусть и легчайшим касанием, едва допрыгнув до – и тяжело рухнув обратно. Потому что он – хороший и много испытавший человек и плохой писатель. Совершенный слепок эпохи, ровесник ее, дитя ее и жертва.
Зачем я все это? Затем, что уже несколько дней чувствую странное. Дурацкую, например, вину, за то, кем считала его раньше (никем), и необходимость восстановить баланс справедливости между его бледным немощным творчеством – и биографией. Был бы он талантлив – не был бы портретом своего времени и поколения, вот в чем штука. Погиб бы. Или переплавил опыт во что-то очень мощное, присвоенное, глубоко субъективное. А так – нет. Просто старательно записал, именно в силу бесталанности оставив парадоксально объективную работу не художника - чертежника. Самое поразительное, что лишь теперь я понимаю, на что там временами в своих многозначительных философствованиях намекает пожилой партработник, главный герой книги Авдеенко, которой, подозреваю, не читал никто, кроме меня.
Нас осталось мало, мы да наша боль. В том смысле, что у автора эталонного (в том числе и эталонно кошмарного, с точки зрения литературы) производственного романа «В поте лица своего», выпущенного в 1979 году тиражом 30 тысяч экземпляров, осталась-то, похоже, только я в целом свете.
Я одна, выходит, о нем помню и знаю. Почему-то захотелось, чтобы, все-таки, не я одна.