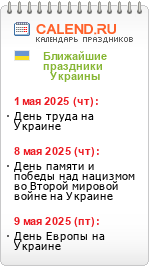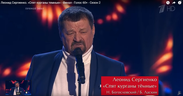Про багрец и кружку
Александр наш Сергеевич был в то время огромной книгой с шероховатой, как будто из грубой ткани, красной обложкой и большими синими буквами на ней. А внутри на всю страницу - царевна-лебедь, с таким прекрасным лицом, каких в жизни просто не бывает. По-крайней мере, я тогда не видела. Ещё и звезда эта, непонятно почему во лбу, и месяц впридачу. Позже я всё сравнивала ее с другой неземной красавицей - Снежной Королевой и никак не могла определить, кто же из них и прекрасней, и белее.

Потом были шесть томов в сине-серых переплётах. Тогда я почему-то была уверена, что они есть в каждой квартире, и в общем, была недалека от истины - почти у всех знакомых на полках стояли такие же. Письмо Татьяны, кстати, с тех пор представляется именно тем шрифтом, как в этих книжках, никаких тебе росчерков скрипучего пера и завитушек. Один том был с закладками и пометками, как-то ушёл читаться к кому-то да так и не вернулся. Осиротевшая пятерка стоит все там же, на верхней полке под слоем пыли. Сто лет никому нет дела до них, но в каком-то из органов сверлит и сверлит досада - как можно было отдать и забыть, и потерять.
А потом и вовсе стало как-то не до него. Не до сказок, не до писем. Так, иногда пролетит чудное мгновенье да нагрянет багрец. Пока не появилось это удивительное, совершенно понятное и точное, подходящее часто ко всему и сразу:
так было мне, мои друзья,
и кюхельбекерно и тошно.
Кюхельбекерно, понимаете ли? И тошно. И именно оно теперь часто приходит на ум и повторяется. Да простит меня Вильгельм Карлович за упоминание всуе, но когда накатывает это самое оно, по-прежнему остаётся один самый верный способ - где же кружка и какой-нибудь томик. Сине-серый. Любой из оставшихся пяти.