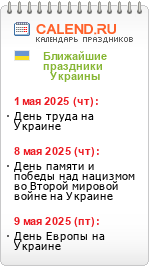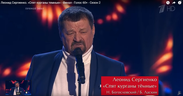Донецкое окно

Оно смотрело на главное. Так оно считало с рождения, так ему казалось все длинные и многие десятилетия, с момента его установки. Его установили в одной из крепких каменных трёхэтажек Донецка по улице Богдана Хмельницкого. Окна этих домов взглянули на мир твёрдо и радостно – как и жильцы новеньких квартир.
Окно сразу же увидело столько интересного – сначала строителей и технику, на которых смотрело немного свысока – рабочие были измазаны в глине, техника запылена и не блистала новизной. Но всё равно было приятно смотреть на это живое движение, благодаря которому метр за метром грязь пробитой колёсами глинистой колеи засыпалась сначала щебёнкой, а потом покрывалась маслянистой чёрной корой асфальта.
В новенькое окно, с чисто выдраенными старым номером газеты «Правда» стёклами, время от времени вламывался дым от котла, в котором варился гудрон, а то и долетали дымы металлургического завода. Тогда окну хотелось чихать и захлопнуть полуоткрытую форточку.
Время шло, оно всегда идёт, и время меняло многое. Но окна наблюдали его течение, только наблюдали. И позволяли наблюдать тем, кто время от времени выглядывал в них.
Осенью под окнами дома посадили деревья. Вообще, судя по всему – дом, в котором жили это самое окно и его собратья, находился в самом центре городской суеты.
Детский сад и школа шумели под боком, звенел трамвай, на поворотном круге скрежеща и искря в ночной темноте. Там же, в темноте целовались и хохотали парочки. В праздничные дни мимо окна бродили нарядные компании, бежала-торопилась детвора с флажками и шариками.
Утром и вечером, по гудку металлургического завода, который виднелся вдали, из дома, хлопая подъездной дверью, выбегали молодые парни и девушки, торопящиеся на смену. Они выбегали почти из всех домов города. Завод в первые годы жизни окна, казалось, занимал половину горизонта. Потом, правда, его силуэты скрылись за выросшими новыми домами и окно уже не могло показать заводских корпусов выглянувшему из него наблюдателю, лишь редкие столбы заводских дымов над крышами возвышавшихся между заводом и окном новостроек.
Другие обитатели дома торопились на шахты, которых не видно было из окна – не то расположение. Но дом, да и его окна знали и об этих огромных подземных катакомбах, в которых в чёрные антрацитовые пласты вгрызались рукотворные чудовища угольных комбайнов. Он стоял на том месте, где глубоко под землёй проходили трудовые вахты его жильцов.
Окну же хватало и тех впечатлений, которыми его щедро снабжали заоконные панорамы. Оно было хоть и с самомнением – как же, дом расположен в самом центре – даже областной совет из него виден, как на ладони! - всё же на самом деле было вполне скромным.
Для счастья ему было достаточно немного масляной краски раз в год и немного воды с нашатырём, да ещё старой газеты «Правда», чтобы сиять и радоваться солнечным лучам, рассылая по округе зайчики хлопающей на сквозняке форточкой. Правда, довольно быстро стёкла и рамы покрывались чёрным налётом, но умелая хозяйка не жалела воды, нашатыря и старых газет.
Хозяйка, в те времена молодая и весёлая, выбрав солнечный и тёплый осенний или весенний денёк, смело вставала босыми ногами на подоконник, и размашистыми движениями отмывала закоптевшие стёкла, возвращая им хрустальное сияние. Она мурлыкала себе бодрое «Нас утро встречает прохладой…» и тёрла, тёрла скрипучей газетой стекло, пока ей не казалось, что наконец-то оно достигло желаемой чистоты.
И в этот момент она тоже была главной – повелительницей окна, его подружкой и слугой. Прохожие поднимали на неё глаза, улыбались, некоторые – окликали или шутили с ней, а окно, распахнутое весенним цветочным ароматам, смешанным с дымными запахами заводских и шахтных будней, чувствовало себя центром вселенной. Особой, донецкой вселенной.
Эта вселенная состояла из повседневного труда и редких праздников, из заводских и паровозных гудков и школьных звонков, из скрипения мела по доске в университетской аудитории и газеты по оконным стёклам, грохота отбойного молотка и шарканья метлы дворника, из криков рожениц и новорожденных и даже тихого гомона похоронных процессий. Она была всеобъемлюща, в ней было всё и иногда даже сразу – потому, что она всё время расширялась, как и положено вселенной.
Окно наблюдало, как меняется эта вселенная и её обитатели. Постепенно, постепенно оно старилось, как и хозяева квартиры, как весь дом… Оно всё ещё немного свысока смотрело на проходящих мимо людей, но рядом, гораздо выше, вознеслись окна новых домов.
Однажды, окно было потрясено. В полном смысле этого слова. Совсем неподалёку упало что-то настолько тяжёлое, что стёкла окна отчаянно задребезжали. Они не треснули, нет – это были надёжные стёкла, которые крепко обнимали старые, но добротно сколоченные рамы. Грохот продолжался. Хозяйка, давно растерявшая девические формы, суетливо бросилась заклеивать стёкла оставшимся от ремонта малярным скотчем. Она видела в это кино, она знала, как это делала её мама – давно, когда тоже была юной девочкой. Она спасала окно, как спасают родного человека.
Окно выстояло. Не выстояла хозяйка. Однажды она ушла в продолжавшийся грохот, наполнявший донецкую вселенную, и не вернулась. А окно продолжило высматривать её, как самое главное, подслеповатыми глазницами с лентами малярного скотча крест-накрест.