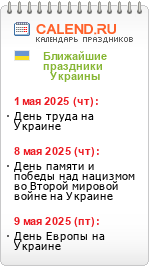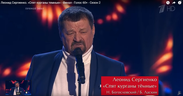Евгения Уралова и Александр Кабаков – как же так, что друг за другом и именно теперь?
Правильно ли писать об этом именно сегодня? Почему-то мне кажется, что да. Друг за другом ушли два известных человека, ушли, когда пик их популярности миновал, но известность и "заслуженность" остались. И оба они в юности - именно тогда, когда закладываются какие-то важные основы построения личности, - повлияли на меня сильно, и оба не подозревали о моем существовании, и нет у меня теперь другой возможности, кроме как здесь, поблагодарить их - вслед. Евгения Уралова и Александр Кабаков. Мужчина и женщина. "Мужчина и женщина" - именно как в кино, с такой же для меня решающей дозой и силой уникального личного обаяния. И они для меня всегда некоторым образом шли «в связке», и теперь я горько дивлюсь очередному жизненному совпадению, важному для меня: что вот так, «в связке» они и вышли из жизни вообще – и из жизни моей. Если я – некий город, то два этих человека – безусловно в списке градообразующих предприятий. Правильно будет сказать, наверное, что это больше относится к созданным ими героям, но ведь эти герои несомненно несли отпечаток своих создателей? И самым странным и важным было то, что моя ими завороженность спровоцировала почти буквальные повторения или, скорее, рифмы в моей собственной жизни. И, надо сказать, прямо в процессе таких совпадений я точно сознавала, на что это похоже и чем задано.
Не помню, когда впервые посмотрела "Июльский дождь". Очень юной, это точно. Сходу влюбилась. На всю жизнь. В каждый кадр. И отдельно – в главную героиню Лену. Она была наделена поразительной естественностью и каким-то неуловимым простым очарованием, заставлявшим изо всех сил запоминать даже мелкие жесты, вроде того, как она поправляла волосы, и интонации, ненарочитые и единственно возможные. И несложная с виду ее история – безысходный роман, тоскливо-тягостно подходящий к концу, случайная «отдушина» в телефонных разговорах с незнакомцем, семейное горе, «болезнь» (за которой лично я усматриваю аборт), раздраженный интерес к более взрослому знакомому, поначалу казавшемуся пошляком-резонером, а потом неожиданно открывшемуся по-иному (за чем лично я усматриваю зарождение новой любовной истории), – была одновременно сложной, состоящей из неочевидных уроков, выводов, колебаний и поверки принципов.
В юности я буквально «сняла» у Лены-Ураловой ее интонации и реакции. Может быть, до совсем обезьянничания дело и не доходило, но осознанное подражание имело место точно. И стоит ли удивляться, что в результате были у меня сугубо телефонные отношения дважды, причем одни тянули на полноценный телефонный роман, и – при ощущении колоссальной близости с мужчинами, которых я знала только по голосу, - хватило чутья и вкуса даже попытки не сделать перевести это в реальность, «данную в ощущениях». То же касается и нескольких романтических дружб, реализованных исключительно в переписке, - и я, опять-таки, каждый раз сознавала, что они родом из «Июльского дождя», пусть его герои и предположить не могли виртуальной электронной реальности несколько десятилетий спустя.
Когда и как я прочла впервые Кабакова, помню как раз хорошо. Началось с первой «перестроечной» тонкой книжечки «Невозвращенец», ее брат-студент привез из Москвы. И она меня поразила. Я ее закончила и тут же начала снова, и так, по кругу, перечитала несколько раз. Довольно скоро та же судьба постигла «Сочинителя». И на какое-то время эта книга стала для юной впечатлительной меня в некотором смысле отношенческим учебником, что ли. На беду. Слишком уж она была обаятельной. Опасно обаятельной, сказала бы я сегодня (да и говорю). Затем последовал «Самозванец», затем «Rue Daru принимает всех», «Нам не прожить зимы», «Бульварный роман»... ну и вообще запоем читались немедленно по выходе остальные (огорчая порой еще не популярным тогда издательским кунштюком – бесконечным пересобиранием одних и тех же текстов под разными названиями): «Подход Кристаповича», «Кафе «Юность», «Последний герой», «Все поправимо», «Московские сказки»… Да всё, всё я жадно читала тогда, включая колонки в «Московских новостях» и «Коммерсанте». И до сих пор где-то в Донецке хранится в папке с важными для меня вырезками-вырывками материал, кажется, из «Огонька» - интервью с Кабаковым, сопровождавшееся его фотографией: он идет по мостовой в моднейшем по тем временам туго перепоясанном плаще с широченными плечами. И когда позже я подружилась с писателем Дмитрием Савицким, говорили мы и о Кабакове: это ведь Савицкий вывел его на международную писательскую арену, бескорыстно выступив в качестве литагента… но об этом больше писать нельзя, во всяком случае – не в этом посте.
Он конструировал поразительную альтернативную реальность, сочинял магические фантазийные миры, лишь отчасти сходные с нашей действительностью. Детали и подробности этих миров до сих пор живут где-то во мне, как не до конца затонувшие Атлантиды, и кажутся порой более реальными и реалистичными, чем те, что были и есть на самом деле. И, конечно, отдельно впечатлял его дар предсказателя - свойственный, впрочем, всякому настоящему писателю, как-то способному улавливать сигналы «откуда-то оттуда», верно их считывать и фиксировать. Он не был, мне кажется, никаким, как теперь любят говорить, демиургом (и точно был наделен более чем достаточным чувством юмора и самоиронии, чтобы над самим патетическим словом «демиург» посмеяться в усы), но какая-то тонкая и точная со-настройка с силами, движущими нашим грешным миром, у него была - достаточная для творческого прогнозирования или маленького потаенного домашнего ведовства. Неслучайно его тексты сбывались. На глобальном уровне - и на локальном, лично моем.
Кабаков сделал со мной страшное: он своими героями (с высочайшей вероятностью и с толстыми намеками - альтер эго) очень надолго сформировал для меня идеал мужчины. Иронии в этой фразе нет: это действительно «страшное» и, прямо скажем, «нелучший» идеал (неуклюжая парадоксальная формула, но другой не найду). Он сделал это как-то исподволь, в лучших традициях последовательного искушения-соблазнения. Начав с чисто внешних особенностей – щегольской ухоженности, осознанного «имиджестроения» в оригинальном ретро-стиле: все эти сладострастно им перечисляемые шейные платки и пиджаки с заплатками на локтях, фуляр, твид, шелк и вельвет, кожаные тупоносые ботинки, одеколоны (до сих пор не могу писать о мужской парфюмерии «духи» или, тем более, убогое «парфюм»)…
Затем – старомодность, возведенная в принцип. Старомодность – неправильное слово, здесь, скорее, нужно говорить о верности идеалам и выборам юности, ностальгически наделенным «знаком качества». Джаз. Кабаков для меня был одним из двоих (второй – Савицкий), кто буквально навязал джаз и как необходимое пристрастие, и как мерку, с которой подходишь к мужчине-носителю определенных вкусов, и как вообще критерий отбора «своих». «Шестидесятничество». Набор любимых писателей. Любимые города. Наделение вещей статусом символов. Способ формулирования и чувство юмора. Вплоть до сленга.
Затем – неуемная откровенная сексуальность. Основа характера и судьбы – нескрываемая, даже, я бы сказала, поднятая на щит. Отменяющая формальные правила и общепринятые принципы. Осознанная зависимость, причина вечного «гона» - совершенно животного. Счастье и беда, диктующая выборы вплоть до фатальных. Иногда неуклюже сопрягаемая с любовью – всегда к разочарованию и трагедии.
Затем – алкоголь. Почти хвастливый алкоголизм, которым, с одной стороны, он (его лирический герой, рассказчик или повествователь) бравировал, а с другой – не скрывал безысходной необратимости (и при этом парадоксальной спасительности) этой огромной составляющей жизни. Он описывал это чарующе аппетитно, честно – и при этом рисуясь. Сладострастное перечисление марок и названий, описание процесса (до сих пор дословно помню «скрутив голову бутылке, сделал первый долгий глоток»), от которого рефлекторно сглатывалось при чтении. И вредоносное это и лукавое наделение алкоголя качеством цветущей трагической сложности, непременно сопровождающим по-настоящему нерядового мужчину (а заодно и женщину, которую он удостаивает вниманием). Они все, эти «крепкие ребята», «старики» и «старухи», так и не выросли из свитера Хэмингуэя и плаща с поднятым воротником Ремарка - даже тогда, когда отзывались о былых кумирах со снисходительной насмешливо-ностальгической улыбкой.
Теперь уже можно признаться, что Кабаков так меня к двадцати с маленьким плюсом годам заворожил, что я тогда даже сама для себя начала писать маленький роман «про сложную любовь» - с большой разницей в возрасте, конечно, - где главного героя звали «Каблуков», и списан он был с Александра Абрамовича. Точнее, с образа его, какой у меня сложился.
И тут нужно отметить еще важное: я писала тогда свои бесчисленные страницы «попытки прозы», невольно, неотвратимо и закономерно имитируя кабаковский оригинальный, ни на кого не похожий стиль. Очень уж он был, опять-таки, обаятельным – настолько, что буквально искушал и вынуждал к подражанию. То, как он складывал слова. То, как он видел. То неуловимое и неназываемое, что тем не менее ухитрялся ловить и называть.
Мне пришлось потом всерьез проделать над собой большую работу, чтобы отделаться от следов попыток «снять» и присвоить этот стиль. И я вовсе не уверена, что даже сейчас в какие-то не фиксируемые уже моменты моей рукой не водит кабаковское перо, и я не воспроизвожу готовые формулы, прочно отпечатавшиеся «на подкорке».
В реальной же жизни, конечно, не обошлось без. Довольно долго я выбирала мужчин по мерке, скроенной Кабаковым. Если долго заглядывать в Кабакова, Кабаков начнет вглядываться в тебя. Точнее, его герои. И ты притянешь такого человека. И я притянула. И даже не однажды. И это стало отличным отрезвляющим лекарством, позволяющим отделить зерна от плевел и оставить книжному – книгово. То, что выглядело таким притягательным, подлинным и значительным на кабаковских страницах, в реальности оказалось… то ли богаче на оттенки, то ли, наоборот, много проще, как только слетел флер обаяния и восторга узнавания.
И человек, который в мои девятнадцать дал мне как раз прочесть «Самозванца», спустя несколько лет позволил на личном опыте узнать цену всем этим метросексуальным прихотям стиля, помноженным, с одной стороны, на очевидный талант и незаурядность, а с другой – на, будь оно проклято, системное «идеологическое» (с целой философской подведенной основой) пристрастие к алкоголю и осознанно выбранное «лузерское» трагическое мироощущение. Это был хороший урок, потом еще раз «граблями» на уровень выше закрепленный с другим человеком поистине губительной, погибельной харизмы, еще более, страшно много более взрослым годами, но тоже, что характерно, высоко ценившим прозу Кабакова (ровесника). От «она сказала: это он!» до «уж не пародия ли он?» путь как раз в расстояние от книжной страницы до ожившего героя.
И знаете, что оказалось наиболее верной, спасительно выбранной стратегией в таких отношениях?
Быть Ураловой. Леной из «Июльского дождя». Которую невозможно втянуть во всю эту обаятельную романтику «декаданса». Которая, как только разбирается в пронизывающей эту поэзию глубинной потерянности и фундаментальной грустной и горькой пошлости, так и ретируется, отряхнувшись. Но потом не говорит с тоской «их нет», но с благодарностию – были.
Евгения Уралова и Александр Кабаков – как же так, что друг за другом и именно теперь? Я не была бы такой, какая есть, если бы они не были такими, какими были. Если бы их не было. Если бы мне не встретились. Спасибо. Спасибо тысячу раз, моя юность, мои университеты. Спасибо, что остались в кадрах и буквах. Светлая память.